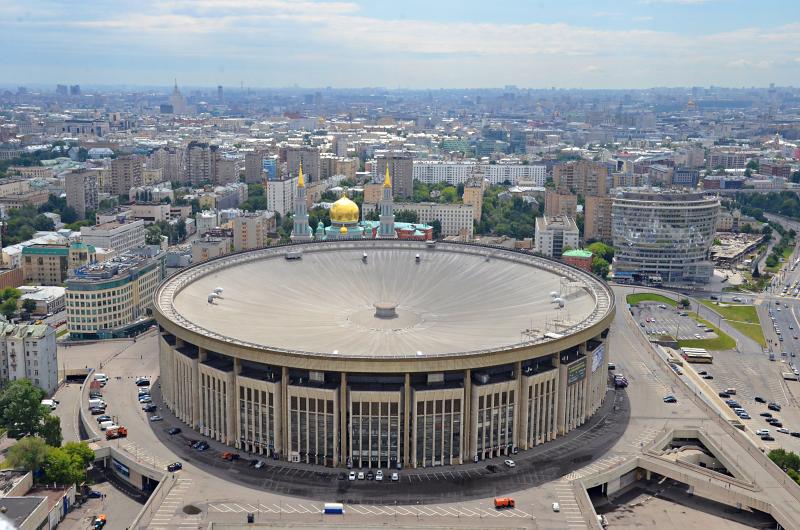Они приближали праздник

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн во всех регионах России. А редакция «НО» традиционно решила провести ее на страницах газеты, собрав воспоминания жителей ТиНАО о родных, заставших годы Великой Отечественной войны.
Мы много раз попадали в лапы к немцам
Воспоминания Хорькова Анатолия Ивановича сохранились в личном архиве его внучки, педагога школы № 2065 в поселении Московский Ирины Сомовой. На момент начала войны молодому человеку не было еще и 18 лет.
«Через 2–3 дня (14–15 сентября 1941 года. — «НО») нашу деревню заполнили машинами, самоходками. Все жители деревни попрятались по углам. А тот, кто попадался под руки какому-либо немцу, был обязательно им мобилизован на какую-либо работу. В домах начался погром. Было все перевернуто вверх дном. То, что мешало, разбивалось и вытаскивалось или сжигалось в печке. Завизжали свиньи под рукой немца, заблеяли овцы. А хозяевам приходилось смотреть на это все разорение из какого-нибудь дальнего угла, не смея сказать ни слова. В общем, короче это можно выразить в двух словах: «Не жизнь, а существование». После ухода первой партии стали наводить порядок, подсчитывать потери. Молодежи не стало видно, все залезли по углам. Через два-три дня приехала следующая партия. Эта стала наводить свои порядки.
И так продолжалось месяца два. Партия сменяла другую партию. Начались расстрелы, виселицы, убийства, насилования. Девушки прятались в подвалах от таких насильников, а ребята скрывались, кто как мог. Судьба Москвы не была нам известна. Многие говорили, что столица разбита и полностью окружена немцами. Сами немцы говорили, что Москва через семьдесят дней должна быть в их руках».
Зверства немцев, по сохранившимся дневниковым записям Анатолия Харькова, не прекращались ни на день. А в декабре 41-го и вовсе произошла история, которая могла стоить молодому человеку жизни. «Помню, как нас собрали на середину деревни. Началась сортировка, детей собирали в одну группу, стариков, матерей — в другую, и взрослых, годных в армию, — в третью группу. Я попал в последнюю. Нас собралось человек пятнадцать-двадцать. Дали конвоиров и погнали по дороге в село Раменье. Там мы встретились с друзьями по несчастью. «…» Нас пригнали в какую-то большую деревню, состоявшую из двух улиц. Многих товарищей уже не было. Они были расстреляны по дороге. Нас впихнули в погреб, где раньше хранился картофель. Когда вошли, нас обдало таким душным, пахнущим и потом, и мочой воздухом, что в первую минуту нельзя было дышать. Наше помещение походило на что-то жуткое, не человеческое жилье. Там и оправлялись, там и готовили себе пищу, достав где-то муки, без соли, над огнем свечки, готовили себе «блинчики». Нас часто посещали немцы, замерзшие на посту, они приходили вымещать свою злобу над нами. Били прикладом, шомполом и всем чем попало. Здесь у нас зародился план бежать во что бы то ни стало. Пускай это будет стоить жизни, но здесь оставаться нельзя. Утром, сговорившись с товарищами во время раздачи пищи, мы решили удрать. Бежали двумя партиями. Первые убежали Курков Виктор, Петр, Соколов Миша и Андрей, за ними последовали мы с Алексеем. Все описывать слишком много. Скажу одно, что мы много раз попадали в лапы к немцам, но знание немецкого языка, наличие волос и паспорт нас спасали. Угнанные вместе с нами пожилые мужчины не решились последовать за нами. И почти все они погибли. Слух есть только от одного». А через некоторое время, когда немцы стали отступать, Анатолий Хорьков оказался в армии, как и все его друзья и знакомые, которым на тот момент уже исполнилось 18.

Пережить молодому человеку пришлось и страшные бои, и серьезные ранения. И истории, попав в которые вчерашнему школьнику чудом удавалось остаться в живых. И все ради того, чтобы встретить долгожданную победу. Она застала бойца в Германии. «День Победы мы встречали в лесу около деревни Гримме. Я не знаю почему, но этот великий по своему значению день мы встретили не с такой радостью, как это можно было ожидать. Для нас он прошел как обычный день военной жизни. Не многим он отличался от повседневной жизни. Митинг прошел с большим подъемом, но радость мы ощущали не полностью. Слушая выступления, вспоминали дни боевой жизни, все, что мы пережили, все, что потеряли за время войны, вспомнилось нам как недавнее прошлое».

Три счастливых дня
По рассказам педагога школы № 2065 в поселении Московский Ирины Казаковой о своей бабушке Казаковой Пелагее Григорьевне.
— Во время войны бабушка была зенитчицей. Ее 767-й зенитно-артиллерийский полк охранял стратегически важный объект — мост через Волгу. Через него во время войны перевозили боеприпасы, оборудование и продовольствие из тыла на фронт. А еще — раненых солдат с фронта в госпитали, — рассказывает Ирина Казакова.
Пелагея Григорьевна попала туда случайно — весной 1942 года вышел указ о мобилизации женщин в возрасте 18–25 лет. Девушка стреляла отлично и очень обрадовалась, когда поняла, что может стать зенитчицей. Так она оказалась на станции Батраки, прямо у стратегически важного моста, где и несла службу.
— Жили в землянках. На условия не жаловались. В нескольких километрах от бабушкиной службы находился дом, где жили ее мама и пятилетняя дочурка, которую за годы службы бабушка видела только один или два раза ночью и всего на несколько минут, — рассказывает Ирина Казакова.
А все потому, что мост без присмотра оставлять было нельзя. Немцы могли прилететь в любую минуту. И у Пелагеи Казаковой была одна мечта — подбить того летчика, что появлялся в небе с каждым днем все чаще и чаще. А еще этим ударом ей хотелось отомстить за своего супруга: говорили, что он пропал без вести под Ленинградом, и скорее всего, его уже нет в живых. Но в то, что любимый вернется, Пелагея верила как никто другой. Она жила этой надеждой.
— Это случилось где-то около четырех утра, — говорит Ирина Казакова.
— Бабушка увидела немецкий самолет, он летел низко. Он все делал и делал виражи над берегом, стараясь подлететь ближе к мосту. Бабушка попала в самолет не сразу. С третьего выстрела. Загорелся хвост, и самолет начал пикировать в воду. Бабушка вспоминала, что все происходящее напоминало ей замедленное кино. Оцепенение прошло, когда зазвонил телефон. Командир кричал в трубку: «Полюшка, ты молодец, ты сбила этого немца!» Потом у нее было целых три выходных — дома с дочкой и мамой! Теплая картошка в чугунке и кусочек сала, который моя прабабушка сберегла для торжественного случая. Только вот уснуть моя бабушка так и не смогла. Она закрывала глаза, а в ушах стоял гул самолета, и слезы радости снова катились по щекам.
…Муж, как и надеялась Пелагея Григорьевна, действительно был жив. Он не пропал без вести, а оказался серьезно ранен, проведя в госпитале полгода. А так как его семья постоянно переезжала, то написать о себе он не мог. Да и сам думал, что родных, возможно, в живых уже нет. Но все равно не переставал искать их. Воссоединиться семье удалось в Ленинграде только в 1946 году. Для семьи Казаковых это было настоящим чудом.
Попал в последний призыв
По рассказам жителя поселения Московский Сергея Смолия о воевавших родственниках.
О годах службы своего дедушки Сергей Смолий мало что знает. Лишь в архиве нашел небольшую выписку, согласно которой значится, что Верзун Пантелей Иванович пропал без вести уже в декабре 1941 года. И никаких подробностей. К сожалению, такая картина — не редкость. Большинство не знает о боевом пути своих родственников. Кто-то так и не дожил до Дня Победы, а кто-то, пройдя всю войну, старался вообще не говорить об этих страшных годах.
Небольшие воспоминания у Сергея Смолия остались лишь от его папы — Ивана Григорьевича.
— Отец оказался в последнем военном призыве, который был в 1944 году, — рассказывает Сергей Иванович.
— Отцу как раз исполнилось 17. Некоторых призывников отправили служить на Дальний Восток, так как там ждали нападения Японии на Советский Союз. Но Иван Григорьевич оказался в Ростове, где вместе с другими солдатами занимался восстановлением разрушенного города.
— Отец говорил, что в то время правительство страны было уверено в победе над фашизмом, и поэтому еще в военные годы создавались такие войска для восстановления из руин наших городов, — рассказывает Сергей Смолий.
— Здесь же служили и фронтовики, которые из-за ранений были направлены восстанавливать город.
Кстати, несмотря на окончание войны в 1945 году, отец Сергея Смолия продолжал находиться на срочной службе.
— Ни он, ни его сослуживцы не возмущались, почему так долго. Все понимали — некому солдат заменить! Отец проходил срочную службу целых семь лет. Поэтому его, как и других, включили в категорию «участник ВОВ», — рассказывает Сергей Смолий.