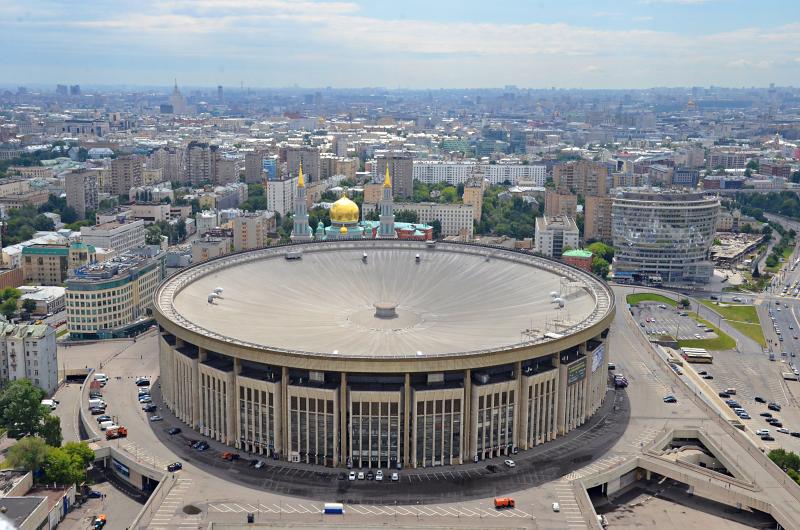Ольга Трифонова: когда снег таял, наступал праздник

В понедельник, 28 марта, исполняется 35 лет со дня смерти писателя Юрия Трифонова. С 1964 года он владел дачей в поселке «Советский писатель», а с 1978 года проживал там с семьей постоянно. После кончины мужа его вдова Ольга Трифонова продолжала жить на даче почти двадцать пять лет, а затем ее пришлось продать.
— Ольга Романовна, дача сыграла какую-то роль в ваших отношениях?
— Как все влюбленные, мы однажды начали выяснять: «А когда ты меня полюбил? А ты меня когда?» И я призналась: у меня это наступило в момент, когда во время свидания ему позвонили и сказали, что дачу ограбили и надо срочно приехать. И он ответил: «Зачем же приезжать, раз уже ограбили?» Но я поняла, что ему просто не хочется уезжать от меня.
— Каким хозяином был Юрий Валентинович?
— Никудышным. Ни сада, ни огорода не разводил, но в этом была своя прелесть. Под окнами шумели сосны, дрозды прилетали подкормиться перед осенним перелетом, а весной на влажной земле в тенистых местах появлялись ландыши. А на северной стороне, в углу между домом и верандой снег лежал почти до конца мая. У нас были свои маленькие тайные праздники: «Исчезновение снега» и «Цветение жасмина».
— С кем из соседей вы чаще всего общались?
— Татьяна Аркадьевна Смолянская, замечательный редактор. Владимир Семенович Высоцкий (он строил дачу на участке Эдуарда Володарского). Зиновий Гердт. Почти родственные отношения были с писателем Иосифом Диком. Григорий Бакланов с Юрием Валентиновичем знали друг друга со студенческих времен. Григорий Яковлевич оказался настоящим другом: это выяснилось, когда я осталась одна. Другом оказался и Тема Боровик. Кто еще? Володя Тендряков. Андрей Дементьев. Художник-иллюстратор Орест Верейский и его жена Люся. Не могу не сказать и о Денисе Драгунском: он очень трогательно помнит обо всех встречах с Юрием Валентиновичем и чтит его творчество.
— Наверное, поселок, где на маленькой территории живет столько творческих людей, — место непростое?
— Он был, с одной стороны, единением людей, ощущающих свою избранность, с другой — глубоко эгоистичным сообществом. Например, никто никогда не помогал погорельцам, а ведь в самой нищей русской деревне соблюдался этот обычай.
Были люди, с которыми Юрий Валентинович не общался. У особо неприемлемых брал фамилии для отрицательных героев. Один раз, готовя роман к изданию, я посмела несколько изменить фамилию одного негодяя. Его прототип здравствовал и жил в «Советском писателе». Мной руководила не осторожность, а жалость к глубокому старику.

— Вы бывали в Троицке?
— Троицк значил очень многое в нашей жизни. Он поддерживал романтичное, но зыбкое существование поселка. Он приходил на помощь и являлся как бы доказательством необходимости существования и трудов некоторых его жителей. Я имею в виду так называемые творческие встречи с горожанами. Их у Юрия Валентиновича было несколько.
— Вы вспоминаете кого-то из жителей Троицка?
— Нашими близкими друзьями стали умелец с золотыми руками Валентин и его жена Наташа.
С благодарностью вспоминаю молодых тогда Евгения Виталинского, Петю Солдатова и его помощника Сашу, построивших честно, хорошо и быстро дом для Ольги (дочь Трифонова от первого брака. — «НО»)
А доктор Виталий Григорьевич Баглаенко был и спасителем, и другом. Он даже деликатно намекнул мне, что лучше перенести дату операции Юрия Валентиновича (удаление пораженной раком почки. — «НО»). В Троицке уже тогда начали пользоваться диаграммами благоприятных и неблагоприятных дней пациента. День операции я изменить не смогла. Юрий Валентинович умер после нее от тромбоэмболии легочной артерии. Наверное, Виталий Григорьевич был прав.
Главный врач детской поликлиники Нелли Васильевна (не могу вспомнить фамилию!) курировала нашего слабого здоровьем, недоношенного сыночка (Валентин Трифонов родился 24 апреля 1979 года, сейчас работает на телевидении. — «НО»). Он вырос здоровенным дядькой. И вспоминает ее часто и весело.
Прошло много лет, и я запамятовала чьи-то фамилии. Да и отношение были почти родственными, без нужды в фамилиях. Поэтому, надеюсь, меня простят.
Юрий Трифонов. Записки соседа (отрывок)
В 1964 году мы с Александром Трифоновичем оказались соседями по дачному поселку Красная Пахра. <…> Мы встречались изредка, здоровались через забор. По утрам Александр Трифонович возился в саду, трещал сучьями, жег костер или рубил дровишки на маленьком рабочем дворе за своей времянкой, как раз возле угла нашего общего забора. Часов в шесть утра я слышал кашель Александра Трифоновича, знал, что он уже встал, возится с сучьями, и тоже вставал и выходил в сад. Я делал гимнастику, приседал и махал руками в еще сыром и темном саду, приближаясь к тому углу забора, неподалеку от которого работал Александр Трифонович. Какой у меня сад! Лес, высокая трава, ели, березы, осина… Приблизившись к забору, я говорил в ту сторону, откуда раздавался треск сучьев: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» Иногда мы разговаривали о садовых делах. Александр Трифонович советовал разредить лес, вырубить молодняк, в особенности осину.
Я был совершенно ничтожен как сельский хозяин. Александр Трифонович это сообразил и перестал давать мне советы — не в коня корм. Он только говорил иногда с оттенком удивления о том, какой отличный сельский хозяин Григорий Яковлевич Бакланов, живший в нашем поселке.
В то лето, первое на Пахре, нам все там очень нравилось: лес, воздух, дорога на речку, речка, магазинчики, молочница на велосипеде. Единственное, что отравляло жизнь, — радио. Звуки радио доносились с участка Александра Трифоновича. В тихом воздухе радиоголоса и музыка были казнью. Я мучился много дней, не мог работать. Обратиться к Александру Трифоновичу и попросить его сделать радио потише представлялось мне бестактностью. Наконец не вынес и как-то утром, когда запело радио и одновременно стал слышен знакомый треск сучьев, подошел к углу забора, поздоровался и спросил:
— Александр Трифонович, это не у вас радио поет?
— Нет, — сказал Александр Трифонович, кажется, даже растерявшись от моего вопроса. — У нас радио никогда не поет. Мы его вообще не заводим.
Оказалось, радио пело на участке, находившемся за участком Александра Трифоновича. Ему оно мешало еще больше, чем мне. Почему же не попросить людей?
Он пожимал плечами.
— Как попросишь? Мы незнакомы. И неловко как-то — взрослые люди… Такова была его деликатность. Может, на дне этой деликатности, в глубине самой находилось нечто иное, например, гордыня. Ведь надо же попросить! А это непросто. Дело кончилось тем, что я обратился к приятелю, тоже нашему соседу, Юзику Дику, а тому никакой черт не страшен и никакая просьба не в тягость, он поговорил с теми людьми, радио заткнулось.<…>
Постепенно в разговорах обнаружилось, что мы на многое — на дачных соседей, на события и на книги, о которых между прочим, между разговорами о жестянщике Коле, большом плуте и обманщике, и о сбрасывании снега с крыши, вдруг заходила речь — смотрим с Александром Трифоновичем одинаково. <…>.
Иногда Александр Трифонович приходил утром, очень рано, стучал палкой в стекло веранды.
— Тургенев говорил: русский писатель любит, чтобы ему мешали работать…
Признаюсь, я действительно радовался приходу Александра Трифоновича, откладывал писанину, работа прерывалась на несколько часов, а иногда на целый день. <…> Почему это я вдруг вспомнил про Колю? Он как-то прочно впаялся в мою жизнь на Пахре. Мы часто говорили о нем с Александром Трифоновичем, обсуждали его живописные качества. Угадывали его хитрости, смеялись над его словечками. «Александр Трифонович, жализо для крыши не надоть? Могу завтра принесть. Только сегодня трояк нужен — ребятам отдать…» Его так и звали: Коля-жализо.
Александр Трифонович относился к Коле хорошо, поручал ему изредка мелкую работенку — то водосток сделать, то колпачок над трубой, — до того дня, когда Коля, на свою беду, не совершил вопиющей неосторожности. Александр Трифонович однажды заметил, как Коля, находившийся на соседнем участке и собиравшийся прийти к нему, вздумал сократить путь и сиганул через забор. Александр Трифонович крайне возмутился.
Несколько раз Александр Трифонович рассказывал об этой истории с гневом:
— Человек, который прыгает через забор, когда есть калитка, способен на все…
Вначале такая категоричность показалась мне странной, потом я понял, что резон тут есть. И Коля впоследствии, кстати, доказал, что способен если не на все, то на многое… <…>
Зимою мы виделись редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать, — я писал тогда повесть «Обмен», — мы виделись с Александром Трифоновичем чуть ли не каждый день.
Стоял свежий теплый июнь.
Каждое утро мы ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним — боялся быть навязчивым, — а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: «К барьеру!» Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шоссе, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нам в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.
Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тинисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи; местами даже стынью обдает, плывешь, плывешь и — холодом по ногам.
Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватаясь за склоненный низко над водой — будто по заказу — не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали могутностью. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго медленно плавал.
В июне шестьдесят девятого года теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он победит! Настроение у Александра Трифоновича в те дни было и вправду боевое. Номера выходили хорошие. <…> Весной и в начале лета семидесятого года я часто бывал на Пахре. Опять просыпался рано, слышал кашель поутру, треск сучьев — в углу неподалеку от забора затевался маленький костерок и тянуло дымом. Я выходил для своей вялой гимнастики в сад, здоровался с Александром Трифоновичем. Он спрашивал: «Какие новости?» Вопрос был обычный, интерес к новостям спокойный. Я что-нибудь рассказывал, хотя сам знал немного.
— Мало, мало у вас новостей, — шутливо укорял Александр Трифонович. — А для нас, пенсионеров, новости — первое дело».
Вокруг этой темы — отставки, пенсии — крутился в мыслях, в шутках постоянно.
— Что это у вас, Юрий Валентинович, ботинки без шнурков? Этак одни пенсионеры ходят, им уж все равно…
<…>
Тогда же или чуть позже, в августе (1970 года, после разгрома «Нового мира». — МЦ.). Зачем-то он зашел ко мне на участок. В углу участка у забора лежали доски, оставшиеся от строительства терассы. Хозяин я нерадивый, и доски лежали плохо, не укрытые ничем — мне на них, честно говоря, было плевать, я считал, что они не понадобятся. Помню, года четыре назад Александр Трифонович просил у меня несколько досок для каких-то своих нужд. И вот, зайдя в августе, вдруг сказал:
— Я когда-то все удивлялся: как это можно, думаю, оставлять доски вот этак лежать под дождем, гнить… А сейчас думаю: правильно, а чего беречь? И сами сгнием…
Печаль была непомерная. То, что называется, смертная печаль.
1972